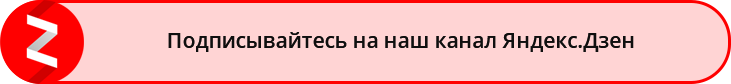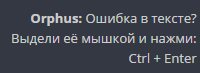Статья
5153
24 ноября 2015 7:38
Управляя музыкой
Свойственная авторитарным режимам идея о том, что музыкой необходимо управлять и ни в коем случае не предоставлять ее самой себе, существует почти столько же, сколько существует и западная цивилизация: пример подобного отношения легко находится в «Государстве» Платона, где Сократ рассуждает с коллегой Главконом о том, какая музыка в их идеальном государстве будет разрешена, а какая изгнана, признавая право на существование в нем только таких музыкальных ладов, которые «превосходно подражают голосам людей несчастных, счастливых, рассудительных, мужественных» (Главкон называет эти лады – дорийский и фригийский). Боэций, как само собой разумеющееся, рассказывает о Пифагоре, который с помощью смены музыкального лада укротил некоего пьяного юношу, собиравшегося поджечь дом своего врага, и привел его в состояние «абсолютного покоя»: здесь уже видна не только идея инструментального воздействия музыки на человека, но и представление о полной операциональной предсказуемости такого воздействия.По этим двум примерам нетрудно заметить, что проблемы в отношениях между музыкой и социальными регуляторами начинаются тогда, когда музыка в представлении тех, кто к ней обращается, обретает инструментальное значение: во всех риториках, к которым прибегают авторитарные (реакционные, традиционалистские whatever) режимы, непременно будет находиться ссылка на преобразовательный потенциал музыки. Она, разумеется, будет встречаться и при подобных разговорах о других видах искусства, но в случае с музыкой история особая – та, в представлении заинтересованных лиц, в силу своей плохо артикулируемой, «физиологической» онтологии обладает потенциалом немедленного, дорефлексивного и, поэтому, прямо манипулятивного воздействия на социум.
Наивно было бы, разумеется, думать, что музыка (и музыканты) в данном вопросе всегда страдательные объекты: музыка, будучи в первую очередь структурой (более, чем любой другой вид искусства, за вычетом, вероятно, архитектуры), всегда в связи с этим тяготеет к порядку – тому порядку, обещание которого лежит в основе легитимности авторитарных режимов (при Муссолини, как известно, «поезда стали ходить по расписанию»). Большое число музыкантов-модернистов, проблематизировавших в своем антиромантизме именно идею подчинения музыки строгим порядкам, по этой причине сочувствовало авторитарным режимам – самым характерным примером тут будет симпатизировавший Муссолини Стравинский (в 1930 году он говорил «Полагаю, никто не боготворит Муссолини больше, чем я»), который был настолько оскорблен фактом внесения его в нацистской Германии в список «дегенеративных художников», что потрудился письменно заверить немецкое министерство иностранных дел в своем отрицательном отношении к «еврейскому культурбольшевизму». Вкупе с его анкетой, доказывавшей его благородное происхождение, и отзывом Рихарда Штрауса об «энтузиазме Стравинского в адрес идей Гитлера», которые осмотрительно приложил его издатель, послание это убедило немецких идеологов в его лояльности, и ему было сообщено о «благожелательном нейтралитете» со стороны немецкого правительства.
Иногда имманентное модернистскому музыкальному творчеству требование порядка становилось настолько императивным, что приводило к подлинным парадоксам: Антон Веберн, соратник Шенберга и самый радикальный из сериалистов, чья музыка с 1938 года была внесена в Германии в список «дегенеративной» и полностью запрещена к исполнению, до самого конца Второй мировой (и, таким образом, до самой своей смерти в конце Второй Мировой) свято верил в идеалы национал-социализма, называл Гитлера «уникальным человеком» и мечтал убедить нацистское правительство в правоте двенадцатитонной системы. Теодор Адорно, делая краткий очерк творчества Веберна (и еще, очевидно, не зная о его про-нацистских симпатиях, так как они известны стали позже), пишет, что Веберн был тончайшим из лириков (и, возможно, единственным в своем роде лириком), и рассуждает о «тотальности частного» в его музыке: порядок, таким образом, проникает в самые интимные сферы человеческой деятельности, превращая их как бы в структурное ядро прочих, высшего уровня порядков, - и не сказать, что эта модель совершенно безобидна, как хорошо показывают идеологические пристрастия Веберна.
В связи с этим стоит отметить, что сериалистическая техника вовсе не была как-то последовательно изгнана из музыки Третьего Рейха: сериалисты существовали в официальном поле культурной политики нацистов, Пауль фон Кленау, датчанин, работавший в Германии, прямо провозгласил порядок двенадцатитонной техники «тоталитарным», то есть таким, который «является полностью приемлемым для будущего национально-социалистического мира», и его оперы, написанные с применением сериалистической техники, успешно шли в тридцатые годы на сценах германских театров. Веберн, таким образом, был запрещен вовсе не оттого, что он исповедовал какую-то крайне свободную, отрицающую тоталитаризм музыку (на чем, очевидно, настаивал Адорно), а просто в силу хорошо задокументированной алогичности и непоследовательности самой нацистской культурной политики, которая прокляла Стравинского, решив, что он еврей, но сочла вполне «арийской» музыку антифашиста Бартока, демонстративно после этого записавшегося в «дегенераты» (entartet) самостоятельно.
То есть, полагать, что существуют как таковые какие-то формы музыки, прямо входящие в структурное и/или идеологическое противоречие с официальным мировоззрением авторитарных режимов и становящиеся от этого для них неприемлемыми (каковое представление являлось основой музыкальной идеологии в послевоенном авангарде, сосредоточенном вокруг Дармштадских летних курсов), не приходится: музыкальные структуры, в силу своей тотальности, не несут никакой имманентной угрозы «врагам свободы» и очень часто, напротив, пользуются вполне гомологичными политическому авторитаризму методами. Другое дело, что авторитаризму и реакции, как правило, сопутствует популизм: вот тут музыка начинает подвергаться формальным регулированиям особенно серьезно.
Основой музыкального популизма всегда является категория «понятности»; под «понятностью» средний потребитель музыки практически всегда имеет в виду такую музыку, которую можно напеть; Лютер, который (предположительно) сочинял хоралы непосредственно для исполнения всей конгрегацией, дал рецепт того, как такая музыка выглядит: широкие, поступательно развивающиеся мелодические ходы, плавное движение, отсутствие резких скачков и ясная простая гармонизация. Именно так и выглядит музыкальный идеал популистского авторитаризма, с неизбежной ссылкой на «народность» такого идеала.
Человеком, особенно наглядно воплотившим данный идеал, был Карл Орф – композитор, в нацистской Германии обладавший статусом национального героя и своею славой как бы избавлявший режим от обвинений в «варварстве». Более всего он известен как автор трилогии, в которую входят кантаты Carmina burana (1936), Catulli carmina (1940-43) и Trionfo di Afrodite (1951) – масштабные опусы, написанные в квази-модальной, «архаической» технике, преимущественно использующие диатонику и насквозь как бы прошитые простыми остинатными ритмическими фигурами; из них нас интересуют, по понятным хронологическим причинам, первые две. Музыка эта, в силу своей жесткой структурной организации, внятного мелодизма и «архаичной» патетики обладает прямо гипнотическим воздействием, что хорошо знает всякий, кто когда-либо имел дело с кинематографом: вступительный номер из Carmina burana под названием O Fortuna – одно из самых излюбленных произведений академической музыки, которым в кино сопровождается какое-либо драматическое и обладающее широким историческим или социальным значением событие – в частности, она звучит в «Экскалибуре» и в фильме Оливера Стоуна «Doors».
Гипнотический, манипулятивный аспект всей кантаты вообще сделался характерным маркером «тоталитаризма» – недаром Пазолини использовал номер из Carmina burana в «Сало, или 120 днях Содома», где на его фоне читает по радио стихи Эзра Паунд, убежденный сторонник итальянского фашизма.
Нельзя сказать, чтобы этот аспект был как-то злонамеренно вложен в кантату идеологами – в конце концов, Орф вполне осознанно строил на основе примитивных структур архитектуру будущей массовой религии, следующей на смену христианству; тем не менее, в иных случаях его методы были не настолько прозрачны и требовали от идеологов доработки. Следующая его кантата, Catulli carmina, как понято из названия, написана на стихи Катулла, поэта, знаменитого эротизмом своего творчества. В одном из номеров ее, в частности, довольно продолжительное время детально описывается красота женской груди, что для нацистской доктрины, чрезвычайно пуританской, как и все авторитарные доктрины (контроль за сексом, как известно, – один из главных источников власти), было вещью неприемлемой; однако такова была слава Орфа, что ему это сошло с рук. Тем не менее, от рецензентов потребовалось объяснение того, отчего подобное позволено. В главной музыкальной газете Германии, Zeitschrift für Musik, этим объяснением была ссылка (разумеется) на Песнь Песней, в которой, по словам рецензента, превозносился «жизненный инстинкт», как и в кантате Орфа, что, таким образом, переводило всю ситуацию в метафизическую плоскость и как бы обезвреживало от потенциально опасных повседневных коннотаций. Поучительно здесь то, что даже в случае музыки, которой сопутствуют слова, призванные вроде бы эксплицировать ее смысл, – способность идеологии реинтерпретировать этот смысл практически безгранична (чем, кстати, очень часто злоупотребляет критика музыкальной поп-культуры).
Словом, по этой истории хорошо видно, что идеологический и политический смысл в музыку вкладывают отнюдь не те, кто ее пишет, а те, кто, выражаясь словами Бурдье, присваивает инструменты интерпретации. Сила авторитарных режимов здесь в том, что в них присвоение данных инструментов небольшой группой людей практически тотально; но нельзя сказать, чтобы случаев реванша «антитоталитарных сил» на том же поле вовсе не было. В этом смысле характерна история Седьмой симфонии Шостаковича, с ее знаменитой, смоделированной по методу равелевского Болеро, «темой нашествия», которая, в силу своей мелодической простоты и безжалостной остинатной повторяемости вполне уместно смотрелась бы в каком-нибудь из орфовских произведений и которая официальной идеологией именно поэтому была проинтерпретирована как иллюстрация вторжения чуждой, враждебной, механической, карикатурно показанной силы; в самой ее неодушевленной повторяемости официальная идеология усматривала сугубо «тевтонский» дух.
Спустя сорок лет, однако, конъюнктура сменилась, и все перечисленные эпитеты легко стали прилагаться к самой советской власти: здесь-то и появилась новая трактовка как всей Седьмой, так и ее темы нашествия – утверждалось, что Шостакович, будучи всемирно отзывчивым гением, вложил сюда осуждение любого тоталитаризма, как германского, так и советского. Трактовка эта основывается на свидетельствах подруги семьи Шостаковичей Флоры Литвиновой; если верить ей, то Шостакович еще в 1941 году, менее чем через двадцать лет после того, как Джованни Джентиле ввел в обращение термин «тоталитаризм» и еще до всякой Ханны Арендт, уже имел представление о том, что такое тоталитарное государство, и обладал достаточно проницательным политическим зрением, чтобы приписать это качество СССР.
Опровергать это мнение (или соглашаться с ним) – не наша задача; в данном случае достаточно лишь того, что оно есть, так как здесь происходит то, что Беньямин называл «политизацией эстетики»: эстетика начинает служить интересам идеологически демаркированных социальных групп. Беньямин полагал, что она таким образом станет служить интересам пролетариата, но оказалось, что она с таким же успехом способна обслуживать и тех, для кого понятие пролетарского искусства – прямое ругательство.
Во всех этих историях, если приглядеться, можно увидеть одно и то же: полную индифферентность собственно музыки к тому, какие манипуляции с ней производят. Это вообще в музыке самое замечательное: она, которой приписаны прагматические, инструментальные и манипулятивные свойства, на деле совершенно пластична в общении с идеологией. И, по большому счету, именно эта ее пластичность и делает ее излюбленным объектом авторитарных идеологий самого разного свойства: ей можно делегировать массу функций идеологии, таким образом как бы избавив саму идеологию от ответственности, – а позже, получив результат работы идеологии, сказать, что это результат работы музыки. Так музыка становится опосредующей и легитимирующей инстанцией идеологии – и только в этом, по большому счету, и заключается ее роль во всей этой, довольно порочной в основе своей, схеме.
Артём Рондарев специально для «Актуальных комментариев»
____________
Читайте также:
10 сентября 2019
Новости
В Сочи прошел первый концерт Фестивального Оркестра Бриттена-Шостаковича
В парке науки и искусств «Сириус», расположенном
в Сочи, прошел первый концерт уникального российско-британского Фестивального Оркестра Бриттена-Шостаковича. Поддержку проекту в рамках года музыки России и Великобритании оказывают компании ПАО «НК «Роснефть» и ВР.
18 февраля 2019
Новости
Рэп-революции не случилось: как изменились музыкальные предпочтения россиян
Музыкальные предпочтения молодых людей
и более старшего поколения отличаются не так сильно, как это преподносится в СМИ, говорится в материалах исследования «Левада-Центра».
1 декабря 2018
Новости
Силовики против музыки. Соцсети возмущены задержанием участников группы IC3PEAK
Музыкантов группы IC3PEAK задержали в Новосибирске
на выходе из вагона поезда. Сейчас, по информации оппозиционера Алексея Навального, от группы требуют самостоятельно отменить свой концерт. Ранее концерты группы уже были отменены в нескольких городах.
Популярные материалы