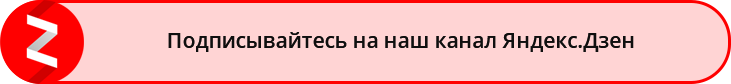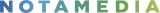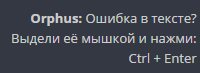Пост модерниста
 публицистАндрей Новиков-Ланской
публицистАндрей Новиков-Ланской
Владислав Сурков получил новый высокий пост и возвращается в Кремль. То, что было предметом стольких обсуждений, теорий, домыслов и спекуляций, свершилось. Одни судьбы и карьеры пошатнулись, другие обнадежились. Однако ситуативный анализ околовластных раскладов лучше оставить наемным комментаторам, а перед собой поставить более общий и серьезный вопрос. Ведь не просто же так, не случайно этот человек столько лет определяет ход развития русского мира? Ведь должен же быть какой-то смысл его участия в управлении русским государством? Историософский проект, промыслительное задание. В такой стране, как Россия, не бывает случайностей и совпадений, слишком высоки исторические ставки.
Его долгое присутствие во власти таинственно и мифогенно. Его отсутствие сразу ощутили все. Проблемы во внутренней политике начались как раз с его уходом из Кремля. Оформление креативного класса, протестное движение, Навальный и панк-молебен, поход интеллигенции против РПЦ, взбесившийся принтер, осложнение отношений с западом – все это началось ровно в тот момент, когда Сурков перестал курировать идеологическое поле. Хотя, разумеется, можно предположить, что останься он на своем посту еще полгода, все это происходило бы и при нем, и неизвестно, как бы он стал с этим управляться, – но теперь это только версии. Во всяком случае, фраза «при Суркове такого не было» в определенных кругах стала почти идиомой.
Впрочем, если мы говорим не о политике, а о чем-то более масштабном и значимом для русской культуры, важно размышлять о нем в стилистическом и культурологическом контексте. Тут вдруг резануло: Суркова стали называть «постмодернистом-политтехнологом». И это определение вызвало внутреннее несогласие. Разумеется, он – человек своей эпохи, и от постмодерна в нем многое: увлеченность игрой и иронией, легкость обращения со стилями и жанрами, восприятие мира как конструктора, погруженность в тексты мировой культуры.
Но, к примеру, от модерна в нем никак не меньше – интерес к эксперименту, тяга к новому и актуальному, практичность и технологичность, провокативность, активизм и готовность к риску. Неспроста его основной пост в последнее время был связан с модернизацией и инновациями. И от романтизма идет многое – акцент на собственной личности, страсть к воле и воля к страсти, творческое самораскрытие и неприятие обывателей. Тем более от классицизма – иерархичность и системность, элитаризм и работа с образцами, педантизм и чистота кроя. Да и от барочного стиля – изощренность и психологизм, испытание границ этического и эстетического опыта.
Такая вот непростая полистилистика и протеичность. Но, если вдуматься, есть стиль, в котором все упомянутые черты гармонично сосуществуют, и это – стиль зрелого Ренессанса. Вспомним: Макиавелли и Медичи, Леонардо и Дюрер, Сервантес и Шекспир – к ним в такой же степени применимы вышеперечисленные столь разные определения, эти диалектически единые противоположности. И речь здесь, очевидно, должна идти не столько о постмодернистской эклектике, сколько о личностной целостности – многообразной и разноипостасной. «Epluribusunum» – «Из многого единое» – таков идеал американских банковских билетов, и этот девиз может быть отнесен и к Владиславу Суркову.
Удивительным образом подобную же картину – синтетическую, синкретичную – мы увидим, если попробуем обратиться к совершенно другой европейской традиции – эзотерической. В старших арканах Таро, этом безукоризненном собрании архетипических образов и ситуаций, инсталлированных в бессознательное культуры и человека, представлены всего четыре мужских типа. «Император» олицетворяет государственную власть, «Иерофант» – духовную власть, «Джокер» – даосское умение встраиваться во внешние потоки и управлять их энергиями, «Маг» – силу творчества и тайного знания. Складывается ощущение, что Владиславу Юрьевичу парадоксальным образом удалось сочетать в себе все четыре.
Иными словами, возвращение Суркова на кремлевский пост, его приобщение к актуальным политическим решениям можно воспринимать и как знак движения к единству, целостности, соединению многих элементов. В ситуации непреодоленного раскола, этой неизлечимой беды русского общества, появление человека, несущего в себе символические энергии Возрождения, представляется весьма многообещающим знаком.
Андрей Новиков-Ланской