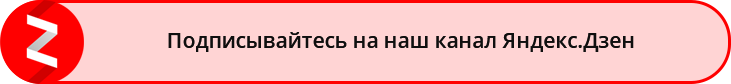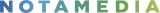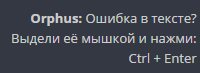Системные риски
 политологПавел Салин
политологПавел Салин
Несмотря на летнее затишье, которое позволяет власти несколько успокоиться и «перегруппироваться», с системной точки зрения положение только ухудшается. Прежде всего речь идет о нарастании социально-экономических рисков, которые, наложившись на общий «моральный износ» власти, могут спровоцировать всплеск протестной активности уже на общероссийском уровне. При этом речь идет о двух группах факторов. Первая носит объективный характер и связана с событиями, которые российским властям в целом неподконтрольны – цены на нефть, макроэкономическая ситуация в Европе и в мире, глобальный рост цен на продовольствие. Однако есть и рукотворные факторы, заметно ухудшающие экономическую ситуацию в отдельных отраслях экономики, что может привести и к социально-политическим сдвигам.
Так, власть серьезно недооценивает последствия вступления в ВТО. Данный шаг является серьезной уступкой Европе, которой в условиях кризиса остро необходимы новые рынки сбыта. Однако это бьет по многим отраслям российской промышленности, причем не таким благополучным, как ТЭК, а работающим на минимальной рентабельности и сильно зависящим от господдержки. При этом минимизация такой поддержки и является основным условием вступления в ВТО.
Вступление в ВТО может стать и уже становится раздражающим фактором в отношениях между властью и средним и крупным несырьевым бизнесом. Последний уже заявил о намерении финансировать оппозиционные политические силы, которые выступают против присоединения России к организации. Так, владелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин заявил, что его структура под названием «Партия дела» намерена раскручиваться именно под лозунгами «анти-ВТО».
Ведущие оппозиционные силы, в том числе и КПРФ, уже заявили о готовности сотрудничать с ним. Предприятие Бабкина попало в критическую ситуацию. Его клиенты, ожидая наплыва дешевой сельскохозяйственной техники после вступления в ВТО, отказались закупать продукцию, что де-факто привело к остановке производства.
Системные риски для российской экономики и социальной сферы, на которые власть не имеет влияния или имеет очень ограниченные инструменты воздействия, также набирают силу. В первую очередь речь идет о европейской экономике, которая является основным потребителем российских энергоносителей. Становится очевидным, что зона евро в существующем виде недееспособна, и встает вопрос о форме «развода». Также неизвестно, какое влияние это окажет на цены на нефть и газ.
Следует указать на еще один серьезный риск, вероятность наступления которого резко возросла в последние недели. Речь идет о возможном дефиците продовольствия в связи с катаклизмами в целом ряде регионов мира. Так, например, ожидается снижение экспорта из США, в России, по первым данным, урожайность зерновых снизилась в полтора-два раза. Положение усугубляется тем, что другие культуры, которые могут заменить зерновые (например, рис), также демонстрируют низкий уровень урожайности.
Россия уже проходила через такой высокий пик продовольственной инфляции сравнительно недавно – в 2007-2008 годах. Однако тогда ситуация была принципиально иной. Доходы населения до кризиса росли, и скачок цен на продукты не так сильно сказывался на его социальном самоощущении. Кроме того, в выборный период власть сумела несколько заморозить рост цен, а после их отпуска в свободное плавание наступил кризис, который объективно заблокировал дальнейший скачок продовольственной инфляции. В нынешней ситуации запаса социального терпения у населения, истощенного кризисом, особенно в регионах, будет гораздо меньше.
Павел САЛИН